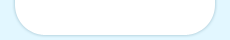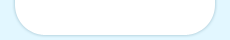|
Популярные медиаматериалы и книги | |
|
|
Статьи
Свои среди чужих: о русских детях в окружении мигрантов. Ч.II (продолжение)
 Автор статьи - Изяслав Александрович Адливанкин (монах Иоанн), ведущий специалист Душепопечительского Православного Центра святого Иоанна Кронштадтского (г. Москва) по проблемам молодежных субкультур, деструктивных культов и религиозного экстремизма. Автор статьи - Изяслав Александрович Адливанкин (монах Иоанн), ведущий специалист Душепопечительского Православного Центра святого Иоанна Кронштадтского (г. Москва) по проблемам молодежных субкультур, деструктивных культов и религиозного экстремизма.
Настоящий материал построен на Аналитическом заключении по проблемам религиозного экстремизма, подготовленном по договору с администрацией одного из ведущих по нефтедобыче городов Сибири, где его автор многократно изучал ситуацию на местах. Но проведенный здесь анализ и его выводы имеют отношение ко всей нефтяной Сибири, а в главном и к иным областям России, где массовые миграции из исламских регионов СНГ и Кавказа поставили вопрос о сохранении народов, исконно проживающих на местах оседлости переселенцев, и русского этноса в первую очередь. Если рассматривать ситуацию в подростково-молодежной среде, складывающуюся в быстро формирующихся новых демографических и социальных условиях, можно видеть, что она несет в себе все признаки развивающегося этноцида русского населения. (ЭТНОЦИД – искусственно созданные условия, приводящие к уничтожению национального самосознания народа)
Злокачественный приоритет молодежи
На наших глазах практически во всех регионах мира вспыхивают социально-политические конфликты, превалирующей основой которых являются разного рода молодежные бунты. Данную форму активности современной молодежи нужно особо отметить. При этом в европейских странах это в основном эмигрантская молодежь – не сами эмигранты, а уже родившееся в эмиграции поколение. И в абсолютном большинстве речь идет о выходцах из арабских стран. Это одна из причин того, что лидеры ведущих европейских держав теперь в один голос заговорили о крахе политики «мультикультурализма».
В последнее десятилетие в среде специалистов был принят термин, который ввел немецкий профессор Гуннар Хайнзон: «Злокачественный приоритет молодежи». Его уникальное исследование "Сыновья и мировое господство: роль террора в подъёме и падении наций" (Sohne und Weltmacht: Terrorism, Aufstieg und Fall der Nationen) исходило из де-факто базового участия молодежи в самых острых конфликтах современности. Их «качество» непосредственно связанно с резко превалирующим над остальным обществом количеством молодых людей, в основном мужского пола.
Профессор Хайнзон ввел термин "демографический сбой", чтобы охарактеризовать страны, которые будут неспособны сопротивляться приоритету молодёжи из других стран.
Определенная норма представлена следующими пропорциями: на 100 мужчин 40-44 лет должно приходиться 80 мальчиков до четырех лет. В европейских странах это соотношение примерно 100\50-60, а в странах Ближнего Востока 100\300-400. Разница более чем очевидна, как и вытекающие из нее перспективы.
Общие анализ современных данных по демографической ситуации в России вполне подтверждают приведенные исчисления и позволяют говорить о следующих цифрах (взятых с большими допусками): если означенное соотношение мужчин и мальчиков в мусульманских народах так же представлено пропорцией 100\300-400, то у русских 100\15-30. Этот дегенеративный процесс отмечен, к примеру, российскими военными специалистами, по данным которых к 2025 году количество мужчин, способных служить в Российской армии снизится на 30 процентов, и будет составлять всего порядка 6 млн.
Но, кроме того, в исламском мире – это приоритет молодежи над взрослым населением, а в европейском (русском в том числе) – это приоритет взрослого населения, что само по себе уже аномалия.
При этом приоритет может быть количественным, но может быть и качественным, имея в виду ту или иную активность или специфическую этническую ментальность. В религиозном же аспекте эта активность (и ментальность, соответственно) может быть просто несравнима – как несравнима агрессивная активность исламского прозелитизма и степенная проповедь православия, к примеру. В России очевидна тенденция синтеза количественного и качественного приоритета – что опаснее всего.
Наглядные примеры этого (злокачественного!) «приоритета молодежи» и его последствий – среда учащейся молодежи сегодня уже многих городов Западной Сибири, как и в иных регионах России с аналогичной демографической ситуацией. Это и «качественный» (пусть это и сомнительное «качество») приоритет исламской молодежи над детьми из русских семей, а в самой ближайшей перспективе и количественный. По крайней мере, таковые тенденции очевидны. Это действующая «подростковая модель» не столь отдаленного будущего всего «взрослого» российского общества.

Чтобы получить дополнительные цифры реальной статистики в интересующем нас аспекте, можно приближенно просчитать этнический состав в процентном отношении среди учащихся выпускных классов по нескольким последним годам. Он будет существенно отличаться от общей официальной статистики по мигрантам.
Если воспользоваться самым примитивным антропонимическим анализом и проанализировать фамилии выпускников школ некоторых городов ХМАО, чьи общеклассные выпускные фото можно найти в интернете, то картина получается примерно следующая: на начало 2000-х годов приходилось в среднем две-три фамилии типично восточного происхождения на класс, в последние годы порядка 30 процентов, а среди мальчиков существенно больше. Даже из этого несложно вычислить демографические тенденции, их динамику и перспективы.
А вот, к примеру, о чем говорит доступная из публикаций статистика за последний год этнического состава учащихся по одному из городов региона – Лангепасу. Усреднив, можно озвучить следующие цифры: на 324 русских приходятся 150 учащихся из традиционно исламских регионов и Кавказа (без учета выходцев из Украины, Беларуси и некоторых иных).
Абсолютно корректные цифры трудно привести, но из имеющихся данных по национальному составу населения этого же города (за 2010 г.) и учащихся старших классов городских школ (за 2013 г.) уже ясно, что процент соотношения русских и мусульман в школах минимум на 15-20 процентов выше в сторону мусульман, чем русских и мусульман, в целом проживающих в городе: исламского населения и выходцев из Кавказа 20-25 процентов от общего количества жителей, а в образовательной среде – порядка 40%… Аналогичная статистика будет вполне применима ко всему региону.
Эта разница и определена быстро развивающимся молодежным приоритетом со стороны мусульманского населения. Повторимся: процесс этот неизбежный, закономерный и соответствует общеизвестным демографическим тенденциям.
Для справки: если взять статистику по всей Тюменской области, то наиболее высокий процент мигрантов из исламских регионов приходится на ХМАО – минимум 15%, порядка 200 тыс. человек (всего населения 1,5 млн.). Для некоторого сравнения: на перепись 1979 года - чеченцев 250, азербайджанцев 1260, узбеков 216, таджиков 94, лезгин 216, русских 423 792; на перепись 2010 года - чеченцев 6889, азербайджанцев 26307, узбеков 9970, таджиков 9793, лезгин 13335, русских 973 978. Диаспора чеченцев увеличилась в 27 раз, азербайджанцев в 20 раз, узбеков в 46 раз, таджиков в 104 раза, русских в 2,3 раза. К примеру, количество таджиков и узбеков от переписи 2002 до 2010 увеличилось почти вдвое. Для сравнения динамика баланса и роста особо крупных диаспор: на 1959 год русских было 89813, татар 2938, башкир 91; на 2010 год татар стало в 37 раз более – 108899, башкир в несколько тысяч раз – 35421, русское население за данный период увеличилось в 10 раз. Чтобы избежать спекуляций, важно конечно помнить, что русские – коренное население, и его демографические метаморфозы носят иной характер, нежели приток мигрантов, но общие тенденции приведенной статистики заставляют задуматься. Сорок-пятьдесят лет – это очень немного для столь серьезных подвижек населения небольшого региона, заложенные сегодня демографические пропорции на века определят будущее страны, но, судя по цифрам, это может быть уже другая страна…
Что важно отметить в ракурсе нашей темы: возрастной и иной баланс трудоспособных и нетрудоспособных граждан в среде коренного населения совершенно несравним с тем же балансом внутри общества мигрантов. Едут обычно здоровые, активные люди, при этом духовно и психологически подготовленные к освоению новых земель. И к определенному противостоянию. Если в таком ракурсе условно вычислить некий средний КПД (коэффициент полезного действия) аборигенов и приезжих, то чисто количественная демографическая разница может просто потерять свое значение. Особенно если учесть известные «народные» пагубные пристрастия коренного населения. Если при этом еще иметь в виду, какие колоссальные силы придает идейно-религиозное обоснование миграции и ассимиляции на новом месте, и религиозное же вдохновение (а мы говорим о народах мусульманских), то ситуация очень непростая.
Большая политика – это долгосрочные прогнозы. Вот как комментирует свои претензии на российские территории один из исламских авторитетов: «Мы все равно победим Россию – рождаемостью». И это уже правда.
Замена на радикальный
Повсеместная тенденция замены в российских регионах (и активно в ХМАО) того, что принято называть «традиционным исламом» на радикальный – очевидна. Но, говоря о традиционном исламе, необходимо иметь в виду одну важную деталь: понятие «традиционный» всегда имеет определенную историко-географическую привязку, говорить о «традиционном» исламе применительно ко всей Западной Сибири – сегодня вряд ли правомочно, «традиционный» он для известных юго-восточных регионов СНГ или России, для некоторых сибирских районов (Тобольск, к примеру), но никак не в целом для русского Севера. Да, древняя Югра была частью Сибирского ханства Кучум-хана до победы в 1581 году Ермака и присоединения этих земель к Москве, но после этого произошла массовая христианизация населяющих их народов и последующие века коренным образом изменили облик этой страны. При этом мы говорим о современных индустриальных районах, имеющих свою обособленную историю. Ислам в Сибири связан преимущественно с татарским этносом, но при переписи населения 2010 года только 3 процента проживающих в Тюменской области этнических татар идентифицировали себя как «сибирские татары». «Традиционное» исламское общество Югры – это в абсолютном большинстве потомки мигрантов и сами те, которые в составе интернациональных бригад приехали осваивать северные недра еще в рассвет СССР, когда ни о каком исламе, как и в целом о религии, не могло быть и речи. Но православные церковки там уже были, что и тогда было естественно для региона с преобладающим русским населением (1939 год – 73 % русских и 2, 4 % татар). А люди тех десятилетий, составившие основу мусульманской общины современной Югры, совершенно иные по своей духовной организации – культуре, этике, пониманию веры и самой России (что важно!), нежели исламские мигранты 2000-х. Искреннее миролюбие и единство того общества было просто уникально относительно воинствующего актуального мира, и сегодня те добрые чувства еще играют свою роль. Но с новыми переселенцами – все совсем иначе: они приехали осваивать чужую страну.
Я подробно останавливаюсь на этом вопросе потому, что доктринальное обоснование «древнего ислама» в этом регионе сегодня нужно именно радикалам. Тогда в известной логике мы «оккупанты», а они возвращают «свое». Уже сегодня имеют место однозначно неадекватные обращения к Патриарху Кириллу с требованием «покаяться» за «уничтожение мусульман исламской Сибири». России было бы только выгодно действительно твердое и не поддающееся на провокации религиозных реакционеров общество сибирских татар-мусульман, ислам которых принципиально отличается от ислама Кавказа и Средней Азии, даже внутри одного исповедания (татары – сунниты), своей умеренностью и неагрессивностью.
В актуальной же ситуации понятие «традиции» еще можно отнести к архаичному укладу старшего поколения исламских семей, но, как правило, у «пассионарных» (по выражению Л.Гумилева) переселенцев и эта особенность быстро размывается, а в молодежной среде просто сходит на нет. Но только не в данном случае – здесь нет «нет», здесь благоприятная почва для формирования исключительно агрессивного ислама по отношению к «аборигенам» – русскому населению. И чувствует себя исламская молодежь завоевателями, нисколько не скрывая этого.
Мир, в котором религия тесно связана с политикой, наиболее подвержен неожиданным радикальным переменам, меняется и сам «традиционный ислам». В качестве примера можно привести одно из событий последнего времени. Абсолютное большинство мусульман России и СНГ – сунниты, и здесь традиционно сложились наиболее добрососедские отношения. Собственно так же, как между Россией и ближневосточными странами с превалирующим суннитским населением. Но некоторое время назад духовный лидер суннитского ислама шейх Юсуф Кардави объявил Россию «врагом номер один». Совершенно неожиданно даже для части профессионалов-наблюдателей. А шейх Кардави – ведущий в арабском мире теолог и духовный авторитет, руководитель «Международной ассоциации мусульманских ученых». По мнению известного израильского эксперта по борьбе с террором, полковника запаса Шабака Амит Асса, заявление Кардави несет в себе прямую угрозу жизни россиян: «Когда такой авторитет как Кардави объявляет какую-то страну главным врагом, то его радикальные последователи воспринимают это как руководство к действию». Что это означает? Нет, есть надежда, что никаких очевидно реакционных действий не последует, но «философия» этой установки породит непредсказуемо пагубные последствия. В институте веры, особенно такой, как ислам, авторитетно брошенное слово может сформировать многовековой закон для многих тысяч или даже миллионов людей. Подобное как минимум просто приобретает статус «по умолчанию» внутри исламской семьи. А проявлять себя эта «домашняя философия» будет в первую очередь в детской среде – особенно в такой среде, где тесно связаны «две стороны», а именно в школе.
Новое поколение переселенцев не сможет сохранить свою «умеренную» традицию в условиях не просто иной региональной ментальности, но именно секулярной культуры. Реисламизация традиционно исламского мира приведет к еще большим конфликтам внутри его религиозно-этнических противоречий. Для среды мигрантов, входящих в иные культурные условия, этот процесс неизбежен. Но речь идет не о полной реисламизации, а об уничтожении именно традиционно устоявшихся «умеренных» течений мусульманства и их архаичных институтов. Если современная культура не удаляет традиционно исламскую молодежь радикально от веры предков, но в определенном смысле «размывает» ее, то они, как правило, становятся радикалами – ваххабитами и др.
 Ислам в самом принципе своего существования имеет одно особенное свойство: на базе всех его толков и течений в любой момент может возникнуть формирование радикального направления. Как бы ни толковать «джихад», укрывая его богословскими метафорами, он джихад и есть – тотальная борьба с неверными. Ваххабизм утверждает, что понимает и реализует его вполне в соответствии канонам изначального ислама, но и сунниту, выше упомянутому шейху Кардави, принадлежит изречение: «ислам сохранился по сей день, благодаря убийству вероотступников». Ислам в самом принципе своего существования имеет одно особенное свойство: на базе всех его толков и течений в любой момент может возникнуть формирование радикального направления. Как бы ни толковать «джихад», укрывая его богословскими метафорами, он джихад и есть – тотальная борьба с неверными. Ваххабизм утверждает, что понимает и реализует его вполне в соответствии канонам изначального ислама, но и сунниту, выше упомянутому шейху Кардави, принадлежит изречение: «ислам сохранился по сей день, благодаря убийству вероотступников».
В аспекте выработки превентивных мер нам полезно было бы воспользоваться еще незначительным, но уже пройденным опытом Европы. Приведем выдержку из недавно опубликованного в США апологетического исследования доктора теологии Питера Хэммонда «Рабство, терроризм и ислам: исторические корни и современная угроза», где автор приводит социологический, историософский и религиоведческий анализ постулатов ислама и его значения в мировой истории. Хэммонд считает, что ислам это не религия и даже не культ. Это всеобъемлющая, тотальная, детально разработанная система жизни, включающая в себя религию, право, политическую и социальную системы, военные аспекты. Все, что уже происходит в российских регионах массового притока мигрантов мусульман, во многом подтверждает правоту автора, который исследовал ситуацию в Европе и Америке – у ислама одна стратегия.
Автор пишет: «История показывает, что исламизация страны начинается тогда, когда появляется значительное число мусульман, и они начинают отстаивать свои религиозные права и требовать привилегий. И когда политкорректное, толерантное и культурно разрозненное общество начинает идти на поводу у мусульман в их требованиях, начинают появляться уже некоторые иные тенденции.
При достижении уровня 2-5 % населения, мусульмане начинают заниматься прозелитизмом среди маргинальных слоёв населения, этнических меньшинств, в тюрьмах.
При достижении 5% они начинают пытаться оказывать влияние на социально-культурную атмосферу соразмерно со своей процентной долей в обществе. А именно: начинают продвигать понятие «халяль», производить и продавать продукцию для мусульман, тем самым обеспечивая рабочие места для себя, организуют торговые сети, рестораны «для своих», культурные центры. На этом этапе они также пытаются налаживать контакты с государственными структурами, пытаясь выторговать для себя наиболее благоприятные условия для исполнения шариатских норм».
Данного этапа «взаимоотношений» мы уже достигли, дальше можно было бы пока не продолжать, еще рано, и мы все же в России. Но в образовательной среде некоторых городов ХМАО этот процент уже достигает 40, а в среднем по населению 10-15%. Потому кратко продолжим знакомство с выводами американского исследователя.
«Когда же мусульманское население достигает 10%, они начинают прибегать к незаконным методам достижения своих привилегий.
При достижении 20% местным гражданам следует быть готовым к началу исламских рейдов на улицах, джихадистским патрулям, поджиганию церквей и синагог.
После отметки в 40% остатки народа, возможно, станут жертвой периодического террора. Когда мусульман станет большинство – более 60%, граждане – немусульмане – начнут подвергаться преследованиям, гонениям, этническим чисткам, будут урезаны в правах, начнут платить дополнительные налоги, и всё это юридически будет основываться на шариатских положениях.

При достижении 80% – государство уже полностью во власти мусульман, христианские и иные религиозные меньшинства будут подвергаться регулярным запугиваниям, насилию, будут проводиться санкционированные государством чистки с целью изгнания из страны «неверных» или принуждения их к принятию ислама.
И когда эти проверенные историей методы дадут свои плоды, государство приблизится к тому, чтобы стать полностью исламским – на 100%, оно станет «Дар-аль-ислам» (дом, земля ислама). Тогда, как верят мусульмане, у них наступит полный мир, поскольку все станут мусульманами, медресе – единственным учебным заведением, а Коран – единственным писанием и руководством к действию одновременно» - заключает Питер Хэммонд.
Будем надеяться, что это не российский сценарий, но господин Хеммонд ничего не выдумывает, он просто объединяет уже видимые всему миру факты с детально разработанными доктринами радикальных богословов.
К примеру, в Югорском же городе Радужном баланс населения уже приблизился к отметке 50 на 50. Там чем-то разволнованная исламская молодежь уже переворачивает машины на улицах точно так же, как мы наблюдаем это в новостях об исламских бунтах в разных странах мира. Югорский депутат Гнетов говорит: «В этом городе нет ни одного русского молодого человека до 30 лет, которого не били бы приезжие». К нашей теме: как же на фоне этого чувствуют себя в данном случае «теневые граждане» - славянские, русские дети в школах этого Радужного?! Ведь логично, что чувствуют они себя плохо. Вероятно настолько, что об этом лучше молчать. Это приведет к необратимой деградации не только русских детей, но и отроков из степенных исламских семей, неизбежно ввергнув их души в водоворот злобы. Таковы законы детского общества…
Сейчас сложилась особая ситуация: с одной стороны переселенцы, особенно молодые, не знают фундаментальных основ своей религии и тем более быстро попадаются на своего рода «модернистскую» проповедь ваххабитов, с другой – все больше богословски подкованных молодых людей приезжают в Россию, и они в свою очередь так же представляют проблему в аспекте неизбежного прозелитизма.
При этом необходимо подчеркнуть неистребимость постсоветской ментальности и ее определенную идентичность с проповедниками радикального ислама, а ваххабизма – особенно. Не случайно такие фашиствующие течения как, к примеру, «скинхеды» исповедуют умопомрачительную смесь из большевистской архаики и анархии, «классиков» которой они при этом цитируют – Плеханова, например. Или взять изображение Че Гевары на майках молодежи. Это итоги постсоветского наследия, умноженного на фатальную культурную и духовную деградацию. Но формы такой генетической предрасположенности могут быть самыми непредсказуемыми и определенный успех радикалов от ислама – несомненно имеет к этому отношение. Отголоски нереализованных «свободы, равенства, братства» болезненно остро резонируют на «Аллах акбар» и на сплоченное вокруг этого сообщество.
Зампредседателя Духовного управления мусульман европейской части России Дамир Мухетдинов по-своему прав, анализируя увеличение числа сторонников радикальных течений ислама в России и приведя в пример Махачкалу, откуда появилось множество смертниц: «Только после того, как мусульман от традиционного языка перевели, они стали соучастниками банд-формирований. Через язык, через традицию прививается само понятие этой культуры, роль и место ислама в жизни твоего народа», – сказал он.
И уж тем более это касается мигрантов в принципиально иных культурных условиях.
Ислам принимает молодежь
Уничтожение духовно-религиозной традиции сыграло пагубную роль для всех религиозных исповеданий России: равно как для православия, так и для российского ислама. Любая религия без традиции и определенной преемственности может легко превратится в экстремальное течение. Первые воспитывают в человеке определенную этику не только в отношении самих предметов веры – исполнении ее обрядов и установлений, но и жизни верующего в разных слоях мультикультурного социума, где просто неэтичное проявление веры может провоцировать конфликты. Традиционные Христианство и ислам, сталкиваясь с современной культурой западного образца и ассимилируя ее в себе, становятся манипулируемы, теряя духовный иммунитет и открывая в себе бунтарские стихии. Это конфликт цивилизаций, причем не в их "классическом" виде, а в деградировавших формах. И сдерживающие факторы на местах этого глобального противостояния – крайне ограничены. Но на разломах этого глобального столкновения оказываются, прежде всего, дети, молодежь.
Современному молодому человеку, воспитанному бесконечным насилием с экранов телевизоров, обделенному вниманием родных и окруженному непониманием – нужна опора, СИЛА. И эта «сила» призрачно мерещится замутненному сознанию некоторых таких искателей в исламе: агрессивная самость, умноженная на сакральную идею и групповую поддержку, может представиться идеальным вариантом. Но это все же не ислам, не религия, давшая миру великую культуру с ее врачами, зодчими, мыслителями и мистиками. Речь идет не о вере, а о самоутверждении. Молодые люди идентифицируют себя в этих условиях тождественно членам бандформирований – что в итоге часто и получается.
Благодаря тому же телевидению и СМИ, массово тиражирующих привлекательные для молодежи поведенческие модели, которые встраиваются в определенный социум, превалирующей культурой молодежи стала так называемая «уголовная субкультура». То есть система взаимоотношений, принятых в уголовном мире. А особо привлекательна здесь «жизнь по понятиям». Так вот ваххабизм так же предлагает нечто подобное, только куда более обоснованное и реальное. И при крайней культурной ущербности это подменяет собой здравое понимание патриотизма и иных цивилизованных принципов общественно-государственного бытия.
Особую роль играют сегодня даже подсознательно действующие механизмы «толерантности» и «либерализма», экспортируемые всеми возможными средствами в сознание молодого поколения. Либерализм, отстаивающий сугубое право человека на самостоятельный выбор, приводит современных молодых людей к позиции, фатально умаляющей общественно-государственный институт преемственности и воспитания. А прилагаемая к этому модель «толерантности» распространяет это право на все, даже на то, что в разумном цивилизованном обществе этого права в принципе не имеет. Сформированный всем этим апломб юной личности готов к «эксклюзиву» даже в религиозности.
И даже потрясающая сегодня устои традиционного семейного мира «ювенальная юстиция», представляющая собой органическую часть пакета либеральных ценностей, – провоцируя управляемый бунт детей против родителей, трансформирует его в итоге в бунт против религиозной традиции. А эта новая «культура взаимоотношения поколений» требует и новую онтологическую базу – религиозную основу. Наше время переставило все наоборот: вначале религия формировала культуру, сейчас культура религию. Ваххабизм, как и многие другие неадекватные формы религиозности, вполне удовлетворяют данному запросу.
Пресловутая западная демократия, внезапно явившая себя народам «развивающихся стран», предложила им главное право – право на протест, бунт. Что мы повсеместно наблюдаем. У нас, конечно, не «развивающаяся страна», но молодежь постперестроечного периода, ознаменованного абсолютно размытыми духовными ценностями и неведомыми ранее соблазнами, – вполне «общество развивающихся стран» и потому открыта к религиозным подстрекательствам радикалов самых разных мастей.
Это и своего рода компенсация украденных постперестроечным периодом тех сущностных составляющих человека, которые идентифицируют его как часть социума – потребности быть востребованным в своей стране. Точно так же, как вложенное в человеческую душу стихийное чувство религиозности заставляет искать Бога и веру, так же социальная и культурная несостоятельность приводит к спонтанному поиску их определенного восполнения. Так молодые люди, ощущая себя жертвами этой постперестроечной дискриминации, находят в исламе знак своей идентичности. На фоне фатального неведения родной культуры и веры этот выбор может быть даже понятен. К тому же православие не обещает быстрого достижения какого-то духовного и личностного преуспеяния, – это обещают секты и... радикальный ислам. Но, конечно, в причинах принятия радикального и «умеренного» ислама существенная разница. При этом есть категория людей, которые, объективно наблюдая до предела развратившийся мир, нашли убежище от него в исламе.
Ислам принимает в большинстве случаев молодежь, и у девушек и у парней есть к тому свои индивидуальные причины, и они существенно разнятся между собой. Столь же существенно, сколь разная «райская перспектива» существует у тех и других по основной исламской доктрине. Не подвергая никакой богословской критике саму доктрину, можно лишь констатировать, что мистика ислама, в своем откровении подробно описывающая сугубо чувственные «райские наслаждения» в нравственно «неоформленном» сознании вполне естественно преломляется в самые грубые чувственные же чаяния. Это превращается в универсальную гедонистическую идею. Если ради «этого» нужно еще и обвязаться гранатами, то, говоря о русских, ставших исламскими радикалами, мы имеем дело с дегенеративной крайностью. Не потому что ислам таков, а потому что никакая вера не терпит грубой материализации. Была такая исламская секта «Ассасины», адептов которой, специально одурманивали наркотиками, а затем, с помощью подготовленных женщин, давали пережить в наркотической эйфории «райский» экстаз в самом низком чувственном виде. Потом ради обретения этого сомнительного блаженства «в вечности» они шли на любое пролитие крови. Наши соотечественники, обуреваемые в итоге ненавистью к родному народу, ничем от них не отличаются, они даже примитивнее и тем опаснее.
Сегодня идет настоящая охота за душами наших детей. И за этим стоят не какие-то сектанты – это профессиональные убийцы, которым нужны войны, идеально вооруженная армия с колоссальными средствами, и они по достоинству оценивают боевые качества русского парня. Изречение одного из известных аналитиков: «Русские мусульмане, которых насчитывается в России около шести тысяч человек, дали стране террористов больше, чем татары-мусульмане, которых почти 4 миллиона»…
Источник с изменениями и правкой редакции: Изяслав Александрович Адливанкин (монах Иоанн), (http://nm-union.ru/index.php/homepage/politika/natsionalnaya/817-svoi-sredi-chuzhikh-o-russkikh-detyakh-v-okruzhenii-migrantov)
Свои среди чужих: о русских детях в окружении мигрантов. Ч.III (окончание)
Свои среди чужих: о русских детях в окружении мигрантов. Ч I
|
| Категория: Семья, воспитание и образование детей | Добавил: Slavigor (07.11.2013)
|
| Просмотров: 1502
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|